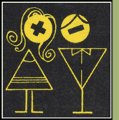 |
 |


|
Философия1980. Чайковский Ю.В., "Многотрудный поиск многоликой истины".Многотрудный поиск многоликой истины.
Чайковский Ю.В. Журнал «Химия и жизнь», 1980, № 10, стр. 15-20. Еще недавно отношение к методологии естествознания вполне резюмировалось двумя расхожими афоризмами – немецким: «Кто не способен ни на что путное, берется за методологию» – и русским: «Кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учти, как делать». Со студенческих пор страдал подобным скептицизмом и автор этих строк, так что однажды, обнаружив, что сам давно занимается методологией, был крайне удивлен. 1. «Живущие в настоящее время бактерии являются, возможно, реликтовыми формами, уцелевшими до наших дней от раннего периода биологической эволюции. Они либо сохраняют старый образ жизни в каких-либо крайних условиях, либо нашли для себя новые экологические ниши». Это – заключительный абзац прекрасного учебника «Общая микробиология» Ганса Шлегеля (Москва, 1972). Автор – знаток микробов и в своем труде ясно показывает, что бактерии в целом – никак не изгои жизни, что они занимают в балансе природы ряд ключевых пунктов, причем эти пункты не «крайние» и не «новые», а, наоборот, центральные и вечные (например, только они усваивают молекулярный азот из атмосферы). Откуда же этот пессимизм по отношению к своему объекту? Ответить просто: эти фразы некритически переписаны из какой-нибудь книги про «дарвинизм ХХ века», где такие фразы обычны – их пишут авторы, не исследовавшие экологию микробов. Непонятно другое. Разве микробиология не знает уже более полувека, что биохимическая мощь царства бактерий гораздо выше, чем в царстве животных? Вот тут и приходится вспомнить о методологии. Микробиолог доверился «мнению специалистов» (чужой дисциплины), не смутившись радикальным противоречием с его собственной наукой. Он не подозревал, что у представителей разных наук разное понимание истины: для него истина – всегда результат хорошо согласующихся экспериментов; вряд ли он думал, что у эволюционистов может быть не так. Однако, как известно, эволюционисты опытов не ставят (а если ставят, то не на своем объекте, а на объекте генетиков), поэтому для них истина – не столько доказанный факт, сколько правдоподобное высказывание; правдоподобность же сама по себе зависит от объекта исследования и допустимых приемов рассуждения, и правдоподобное для одних нередко лишено всяких оснований для других. Ошибка Шлегеля в том, что выводы теории, основанной на идее взаимного вытеснения, он приложил к проблеме равновесия биосферы, то есть к вопросам взаимной подстройке; идею конкуренции, которую сам Дарвин считал существенной для близких видов, он, вслед за дарвинизмом ХХ века, распространил на взаимодействие разных царств. Инфузория, с ее сложнейшей структурой и изобретательным поведением, способна синтезировать всего 10 аминокислот из двадцати; как же ей конкурировать с «примитивной» бактерией, делающей все, что ей нужно, из глюкозы и азота? разумеется, они не конкурируют, а сотрудничают (когда бактерия поселяется внутри инфузории), и экологи давно это знают. Всю экологию можно назвать наукой о взаимоподстройке, которую нарушает лишь конкуренция видов, наделенных близкими потребностями. Тем не менее многие эволюционисты до сих пор видят в конкуренции главный движущий фактор биологического прогресса. Кто же прав? 2. В сущности, вопрос не ном, он регулярно возникает в различных науках. Считать ли атом твердым шариком или чем-то расплывчатым? Считать ли, что возникновение жизни было предрешено в момент рождения Вселенной или что жизнь отобрала сама себя из множества случайных вариантов развития материи? Считать ли исторические события уникальными или всего-навсего поворотом одних и тех же стекляшек в калейдоскопе? Все подобные вопросы иллюстрируют, если хотите, принцип дополнительности Нильса Бора; свойства объекта определяются тем, с какой точки зрения на него смотреть. Однако если физика достаточно точно указывает, в каких феноменах атом удобно считать шариком, а в каких – волновым пакетом, то другие вопросы – предмет бесконечных споров. Заметив это, физики уже встали в гордую позу: мы-де свои утверждения доказываем, а вы ограничиваетесь описанием. Впрочем, дело не только в этом. Известный науковед Эдуард де Боно подчеркивает («Рождение новой идеи». М., 1976): никакая новая идея недостижима логически, она всегда рождается интуитивно, но затем может быть логически доказана или опровергнута. При этом роль логического доказательства де Боно оценивает невысоко, считая, что она сама в конечном счете подчинена эмоциональным мотивам. Он приводит такой пример: гипнотизер внушает пациенту, что он превратился в собаку, и тот становится на четвереньки и лает на четвереньках; на вопрос, зачем это, гипнотизируемый начинает доказывать логичность своего поведения: он – собака, следовательно... Такова сила рационализации! – заключает де Боно. Физика знает множество таких доказательств-рационализаций. Например, курс оптики издавна строился на «твердо доказанном» факте невозможности синхронного излучения хотя бы у двух атомов. Надо было построить лазер (генератор синхронного излучения), чтобы заметить, что все «доказательства невозможности» просто-напросто относились к объектам, не допускающим синхронизации. Более того, оказалось, что еще лет за двадцать до появления лазера была теоретически обоснована его осуществимость. Выходит, и здесь долгое время сосуществовали исключающие друг друга «доказательства». В строгом смысле слова доказательства возможны только в математике, и не потому, что математики умнее других, а потому, что сами создают вселенную для своих опытов, все же остальные вынуждены экспериментировать во Вселенной, созданной не ими. Доказательство означает неопровержимую демонстрацию невозможности какого-то события (любая теорема допускает формулировку: «такое-то множество пусто»), но утверждать невозможность бессмысленно, если в реализации события могут сыграть роль неизвестные обстоятельства. Это и губит рано или поздно любое физические «доказательство». 3. Однако, слов нет, физика гораздо точнее других наук, например она больше, чем какая-либо другая наука, математизирована. Физики опять-таки видят в этом плод своих трехсотлетних усилий и предлагают другим идти по их стопам. Методологи возражают: напрасная трата сил. Математизация физики оказалась возможной потому, что разнообразие физических объектов не препятствует почти полному охвату (то есть от опыта к опыту новые обстоятельства практически почти никогда не появляются), оттого и рассуждения могут быть «почти доказательствами». А в других сферах знания этого нет: геолог не встречает двух месторождений (а биолог – двух организмов), настолько сходных, чтобы говорить об их взаимозаменяемости. Организмы, как говорят вдумчивые биологи, неперечислимо разнообразны. Та математика, что создана для нужд физики, здесь вряд ли полезна. Именно это обстоятельство – взаимозаменяемость объектов в рамках исследования – позволяет представлять явление природы в виде модели, которая в свою очередь поддается математизации. Если геолог или биолог могут составить модель не иначе, как опустив что-то важное, то физик часто создает очень полные модели, в которых отражено все явление, кроме «малых возмущений». Причем нередко он даже не отдает себе отчета в том, что его уравнения описывают, собственно говоря, не объект, а только модель объекта. Когда в середине ХIХ века было установлено, что планета Меркурий ведет себя не вполне по Ньютону (орбита поворачивается на 43 угловых секунды за столетие), разгадку стали искать в чем угодно – в сопротивлении межпланетной среды, в том, что на Меркурий влияет неизвестная планета, даже в неправильности закона тяготения. Тогда как суть дела в том, что ньютонов закон есть закон поведения ньютоновской модели Вселенной, но не самой Вселенной. Тогдашняя методология утверждала, что малые искажения следует объяснять малыми возмущениями, каковые следует вводить в уравнения в виде малых поправок. Почти всех удовлетворило такое объяснение парадокса Меркурия: закон тяготения следует записывать не в виде формулы F = 1/r^2, где F – сила тяготения, r – расстояние между телами, а чуточку иначе: F = 1/r^2,00000016. Среди тогдашних парадоксов физики был и другой: в 1881 году А.Майкельсон нашел, что скорость света не зависит от того, куда направлен луч – по ходу орбитального движения Земли или навстречу ему. Если бы кто-нибудь сказал, что здесь есть что-то общее с парадоксом Меркурия, его подняли бы на смех: данные явления несопоставимы, они определяются разными законами природы. Понадобился гений Эйнштейна, чтобы всего через 35 лет убедить вдумчивых коллег (а через 50 лет – почти всех), что оба факта имеют одну и ту же причину, но уяснение ее требует новой модели мира. На вопрос, почему переворот в умах произошел так быстро и относительно гладко, ответить непросто – ведь большинство подобных идей входят в науку столетиями. Дело не столько в удачном толковании наблюдений (разве в прошлом наука не игнорировала многие эмпирически наблюдаемые факты, такие как падение метеоритов, гипнотизм, биологический эффект космических процессов – вместе с их толкованиями?), сколько в благоприятных методологических обстоятельствах. Одно из них легко заметить: первый результат Эйнштейна (искажение законов механики при возрастании скоростей) легко воспринимался на языке «малых возмущений». Казалось, что новые представления касаются лишь узкого круга вопросов и практически не меняют установленных прежде законов механики и электродинамики сред, движущихся с обычными скоростями. Теперь-то мы знаем, что тогда произошла революция, перевернувшая все наши представления о мире: оказывается, пространство и время сплетены в нечто единое, и этот факт приводит к самым неожиданным последствиям в обычных земных условиях. Например, мучившее ученых со времен Ньютона совпадение массы как меры веса с массой как мерой ускорения стало просто новой аксиомой естествознания. 4. Дискуссия натуралистов на методологические темы ширится у нас на глазах; сошлемся на выступление в научно-популярной печати двух ведущих ученых – палеоботаника Мейена и физика-теоретика Мигдала (С.В. Мейен. Врачу, исцелися сам... «Знание – сила», 1978, № 6; Может ли быть победитель в дискуссии о номогенезе? «Природа», 1979, № 9; А.Б. Мигдал. От догадки до истины... «Химия и жизнь», 1979, № 12). Несходство профессий в данном случае вряд ли имеет значение, так как речь идет о самых общих вопросах; существеннее, что оба специалиста, известные своими крупными научными результатами, придерживаются едва ли не противоположных взглядов на логику и методологию естествознания. Оба автора – внимательные и благожелательные люди, у них нет ничего общего с примитивными «охотниками на ведьм», ежеминутно готовыми бить лжеученых – спасать науку. Оба признают, что противоборство мнений в науке неизбежно, что взаимное непонимание может быть вызвано объективными причинами, преодоление которых требует специальной работы, сравнимой с собственно научными исследованиями. Тем удивительнее, насколько различны их рекомендации. А.Б. Мигдал берет, так сказать, быка за рога: «Единственный убедительный способ установить истину – поставить... эксперимент, проведенный специалистами, дающий повторяющиеся результаты и подтвержденный независимыми опытами других исследователей». Показаниям очевидцев он не только не доверяет, но прямо заявляет: настоящий ученый, увидев что-либо сверхъестественное, обязан прежде всего исключить преднамеренный обман, обман зрения или гипноз. Подобные феномены должен исследовать консилиум специалистов, в числе которых должны быть и цирковые фокусники. Вот и методологический тезис: «Задача науки – отбирать наиболее правдоподобные объяснения и придерживаться их до тех пор, пока опыт не заставит от этого отказаться». Правдоподобное предположение служит для Мигдала поводом к отказу от дальнейших исследований проблемы, и выходит, что все его отличие от упомянутых охотников состоит лишь в несколько большей терпимости: он не хочет ничего запрещать другим. По-видимому, формулировки Мигдала не следует все же понимать буквально: ведь математик требует не повторности результатов, а одного-единственного доказательства; в биологии повторность обычно неточна, а палеонтолог вообще не ждет второй находки археоптерикса, чтобы описать новый таксон, да и экспериментов не ставит; не ставит их и астрофизик, хоть он и физик. Наконец, разве Эйнштейн искал смещения орбит разных планет, а не только Меркурия? Разве кто-нибудь не поверил первому же сообщению о запуске первого спутника? Однако не будем придираться: мысль автора ясна, и эта мысль достаточно здравая -–науке необходим некоторый консерватизм. Другое дело, нуждается ли этот консерватизм в особой защите (и так ведь большинство научных работников заняты только перепроверкой и правдоподобными объяснениями), но в принципе консерватизм нужен в науке так же, как наследственность – в эволюции. Гораздо хуже дело с очевидцами, обманом и гипнозом. Слов нет, обман бывает повсюду, но разве приходило в голову самому Мигдалу, едучи в институт, где совершенно научное открытие, приглашать с собой эксперта-фокусника? Дело разумеется, не в том, что физический эксперимент подделать трудно; просто немыслимо демонстрировать коллегам столь явную недоброжелательность. Таким «экспертам» коллеги вряд ли что покажут, и будут правы. Далее: разве, сославшись на возможный гипноз, автор что-нибудь объяснил себе и нам? Навряд ли гипноз понятен ему больше, чем телепатия; такие ссылки – просто выражение веры в правоту всякой академической науки. Стоит напомнить, что гипноз прошел весь тернистый путь от лжеучения до стандартного терапевтического метода и что в 1774 году врач Антон Месмер, пытавшийся пользовать пациентов методом, который сейчас можно квалифицировать как гипнотерапию, был ошельмован «консилиумом специалистов», то есть группой авторитетных медиков, назначенной французским правительством для рассмотрения вопроса, в котором они, увы, ничего не смыслили. Характерно, что аргументы, некогда выдвинутые против гипноза, были те же, что всегда выдвигаются против всевозможных «лжеучений», старых и новых: отсутствие хорошей повторяемости (гипнозу поддаются не все), противоположные эффекты (средство, помогающее одним, ухудшает состояние других), необъяснимость с точки зрения физики (Месмер отождествлял гипнотизм с магнетизмом, а такой связи не найдено и поныне), наконец, неудачи контрольных сеансов в присутствии комиссии. Что же касается множества больных, которым гипноз все-таки помог, то эти случаи, разумеется, допускали «более правдоподобные объяснения». Предрешать исход конкретного научного спора – не дело методологии, но она обязана указать спорщикам, когда они выходят за рамки компетенции своих наук. Нельзя требовать от непонятного феномена, чтобы он подчинялся тем же критериям истинности, что и задачи студенческого практикума. Физика почти не умеет работать с потоком несходных уникальных наблюдений, поэтому не от нее следует ждать раскрытия тайн психики – она не смогла подступиться даже к относительно простой, во всяком случае привычной, проблеме гипноза. Прошло сто лет после Месмера, и гипнотизм как-то сам собой, без помощи комиссий, стал достоянием лечебной медицины. Дело, как видим, не в новых фактах или физических теориях, а в освобождении от власти придирчивой недоброжелательности. Истина не рождается в комиссиях, зато там легко наклеивается ярлык «лженауки». Именно об этом и размышляет С.В. Мейен. По его убеждению, наука отличается от лженауки не арсеналом фактов и теорий, а этической атмосферой работы. Много раз уже предпринимались попытки дать формальное определение лжеученого, что облегчить работу научных инстанций, но до сих пор пользы не вышло. Научный шедевр поначалу способны оценить немногие, а они-то и не любят заседать в комиссиях. Однако у всех ученых должно быть то общее, что необходимо им в работе и может быть без труда распознано при общении: ученый готов слушать, чтобы понять, а не чтобы возражать; он хочет, чтобы его творение совершенствовалось, ищет у себя просчеты и жадно слушает критику. И наоборот: тот, кто изобретательно защищает свое творение и рад найти просчет у оппонента, тот выступает не как ученый. «Степень самосознания, рефлективности – главный критерий зрелости науки», - пишет Мейен и тоже делает попытку определить границу науки и лженауки: «Рефлексия в науке подразумевает прежде всего такт и самоконтроль ученого. Тогда на противоположном, «нерефлектирующем» и «лженаучном» полюсе будет отсутствие и такта, и самоконтроля. Каждый, кто хоть немного страдает недостатком того или другого, приближается к тому, что стало принято называть лженаукой». И здесь, пожалуй, хвачено через край: разве не знает наука крупных личностей, которые слушать не умели абсолютно, но сами умели придумывать полезное? Не относить же их всех к лжеученым! Однако Мейен безусловно прав в том смысле, что эти добровольно оглохшие гении сами себя обкрадывали, ограждаясь от неугодных мыслей, то есть поступая антинаучно. Вряд ли можно найти хотя бы одного из таких добровольно оглохших, в чьих трудах жемчужины мысли не перемешаны с банальностями. Эти-то банальности эпигоны усвоят легче всего – вот и подлинная лженаука. Как же быть? Рекомендация Мейена и проста, и трудна: ничего не отвергая сразу, размышлять над разными вариантами, а «природа рано или поздно укажет, какие теоретические варианты бессмысленны. Важно только не принять за эти указания собственные субъективные симпатии и антипатии, традиции научных школ». 5. Итак, согласно одному взгляду, наука – это то, что хорошо проверено, согласуется с прежним опытом («фундаментом научных завоеваний прошлого») и принято специалистами; согласно другому, наука – то, что «отрефлектировано», то есть прилажено само по себе. Разумеется, теория относительности научна в обоих смыслах: она покорила мир цельностью (именно цельностью не обладали «более правдоподобные» поправки); однако Эйнштейны рождаются редко и в наших советах не нуждаются. Важнее понять, как быть с едва намечающимися идеями, для проверки которых еще не созван синклит знатоков. Бросается в глаза: «наука по Мигдалу» направлена шипами въедливой критики наружу, не доверяя сенсациям, зато легко согласна пройти мимо клада; напротив, «наука по Мейену», оснащенная щипами самокритики внутрь и, уязвимая для чужой критики, согласна искать жемчужины в навозной куче и не дает своим адептам почивать на достигнутом. Следовательно, вторая пригодна поставлять новые идеи (ведь легче прилаживать их друг к другу, чем к опыту прошлого), а первая хороша для отбраковки, развития и внедрения. Между прочим, так обстоит дело с биологическим эволюционизмом, где борются два типа учений: первые исходят из того, что эволюция – это отбраковка неудачных и распространение удачных организмов, возникающих случайно (то есть как бы за рамками учения); вторые озабочены проблемой: откуда появляются ростки нового? Конечно же, первый взгляд на науку удобнее для учебников. «Мы твердо знаем, - продолжает А.Б. Мигдал, - что дальнейшее развитие науки не отменит установленных соотношений, а только выяснит область их применимости». Пожалуй, учебник можно выдержать в таком духе (ведь мало кому из будущих ученых доведется совершить научный переворот, а бороться с вечными двигателями придется), но давайте все же признаем, что сама наука до сих пор развивалась не так. Разве геоцентрическая система или теория флогистона не отвергнуты? А ведь когда-то они были респектабельной академической наукой. Разве ограничение области применимости не есть отмена тех соотношений, которые были предусмотрены до выяснения ограничений? Людвиг Больцман прекрасно знал, что закон возрастания энтропии верен только для изолированных систем, и все же был уверен, что Вселенная деградирует; Илья Пригожин (лауреат Нобелевской премии 1977 года), наоборот, показал, что в открытых системах возможен самопроизвольный синтез структур, - формально это не противоречит Больцману, но как меняет все наше мировоззрение! Теперь после Пригожина затихли речи о «термодинамической невероятности живого». До этого физик не умел объяснить, почему эта формулировка бессмысленна: оказывается, практическое понимание границы применимости достигается лишь тогда, когда хоть немного приоткрывается то, что лежит по ту сторону этой границы. Короче говоря, мы понимаем закон ровно в той мере, в какой знаем границы его применимости, рассуждать же о будущей несокрушимости какого-то закона – значит, поддаться искушению той самой неоправданной рационализации, о которой мы толковали выше. В целом можно сказать, что утверждение, будто наука движется путем самодостройки, не выдерживает критики. Далеко не новым и не самым смелым является следующий вывод науковедов: естествознание движется вперед не столько путем добавления новых фактов и законов к прежним, сколько регулярным пересмотрам парадигм (о парадигмах в науке говорилось в статье В.В. Налимова в № 1 «Химии и жизни» за 1978 г.). Ньютонова парадигма неограниченного пространства и абсолютного времени не подправлена, а отменена парадигмой Эйнштейна, которая тоже, как уже сейчас видно, не вечна. Аккуратные факты сами по себе, действительно, не отменяются дальнейшим прогрессом науки, но науку образуют не факты, а модели, которые меняются – приятно нам это или нет. То, что вчера было академической наукой, завтра может быть сдано в архив (и потом снова извлечено лет через сто), а вчерашняя лженаука может стать наукой – примеров тому не счесть. Именно так сложилась судьба одной из самых известных идей мировой науки – идеи биологической эволюции. Она претендовала на академизм с середины XVIII века, но свыше ста лет прозябала в качестве лженауки, вплоть до появления книги Дарвина (подробно об этом в наших статьях: «Химия и жизнь», 1978, № 12; 1979, № 12). Можно подумать, что Дарвин представил именно тот комплект фактов, который, наконец, убедил «специалистов», но это не так: недостаточность фактического обоснования нового учения отмечали не только его критики, но и многие из числа сочувствующих. Вряд ли «Происхождение видов» вышло бы в свет без поддержки знаменитого геолога Чарлза Лайеля, авторитет которого помог обойти «мнение специалистов»; а ведь сам Лайель вовсе не был уверен в обоснованности дарвинизма: он ценил идеи своего друга за их яркость. Признание дарвинизма в конечном счете оказалось переосмыслением давно известного, а недостающие аргументы стали поступать позже. Все сказанное приводит нас к выводу: историю науки, пожалуй, и можно излагать как «поступательное развитие», но это так же скучно, как казенная биография ученого: получал результаты, дипломы, чины и... старел. Смена дня и ночи, моменты взлета и полосы неудач, любовь и ненависть, успехи и катастрофы, а главное – вечный поиск ускользающей истины, - все это остается по ту сторону «поступательного варианта» и вне послужного списка, и биографии ярких людей пылятся на полках. Разве в том дело, что Эйнштейн ошибся в формуле и писал об этом Фридману? Такие курсы истории науки студенты неизменно прогуливают. Насколько интереснее было бы для них узнать, что, например, идея устойчивости движения планет родилась у Джорджа Дарвина (сына Ч. Дарвина) по аналогии с идеей естественного отбора, что общая теория относительности в чем-то соприкасается с древнеиндийскими представлениями, что до Максвелла электричество хотели объяснить механикой, а после него – механику стали объяснять электричеством. Тогда и нынешняя претензия видеть в биологии одно лишь взаимодействие валентных электронов нашла бы свое историческое место: ведь триста лет назад любили физику выводить из биологии (считали, например, что кристалл растет из семени). Сейчас этот настрой мысли возрождается: кое-кто среди физиков говорит о прапсихике атома. 6. Изложенного, по-видимому, достаточно, чтобы сформулировать тезис: истина не может быть безапелляционно отличаема от лжи с помощью «специалистов», поскольку любые каноны формулируются задним числом, в порядке рационализации пройденного. Либо нужно отказаться от термина «лженаука» и ему подобных, либо придется признать, что лженаука – такой же феномен культуры, как и привычная нам школьная наука (недавно, кстати, вышла книга В.Л. Рабиновича, которая так и называется: «Алхимия как феномен средневековой культуры»). Среди исторических корней любой науки всегда найдется корешок «лженауки» (алхимия и химия – хрестоматийный пример). Но этого мало: наука и лженаука то и дело меняются местами. Исследовать поверья и приметы – удел лженауки (о чем прямо пишет и Мигдал), но вот Мейен считает, что респектабельный эволюционизм основан на утверждениях, которые иначе как научными приметами не назовешь. В тех дисциплинах, где разнообразие объектов много шире возможностей описания, из разных «примет» можно складывать разные учения, равно убедительные для специалистов с разными вкусами, и они будут враждовать долгие годы, разумеется, аттестуя друг друга «лжеучеными». Те ученые, которые не знают об этой конфронтации, могут строить чудовищные химеры по советам «специалистов» (см. первую главу этой статьи), однако достаточно осознать многоликость проблемы, чтобы понять: в этой дискуссии никогда не будет победителя. Прогресс – удел того, кто более самокритичен. Заметим, что полуподпольный статус лженауки не мешает идеям получать выход в практику: гипноз, иглоукалывание и многое другое вошло в практическое врачевание задолго до официального одобрения и вопреки отсутствию удовлетворительного научного объяснения. Влияние магнитных полей на жидкости и организмы не объяснено до сих пор, но это не отталкивает тех, кто с успехом использует это влияние. Что же касается экономичности самих научных исследований, то здесь лженауке можно только позавидовать: считанными людьми, самодельными приборами и почти без финансирования она подчас делает очень многое. Впрочем, не будем пытаться дискредитировать альтернативный образ мыслей, пусть по нашему убеждению и консервативный. У каждого подхода свои достоинства, и если стоит над чем задуматься, так это над той же проблемой контакта: не только разные специалисты, но и разные методологии заставляют ученых попусту враждовать и наделять друг друга нелестными эпитетами. Чуть перефразируя Мигдала: можно понять даже своих коллег, если приложить к этому хотя бы часть усилий, какие тратятся на занятия самой наукой. Справка: Чайковский Юрий Викторович (1940 г.р.), tchaik@history.ihst.ru , исследователь истории дарвинизма, эволюционист, кандидат технический наук, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники (ИИЕТ РАН, Москва). Автор монографий «Элементы эволюционной диатропики» (1990) и «О природе случайности» (2001, 2004). Мейен Сергей Викторович (1935-1987), палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук. Окончил биологический и геологический факультеты МГУ, один из создателей теории стратиграфии, палеоботаник, эволюционист-номогенетик, создатель отечественной школы палеоботаники (в особенности палеозоя и мезозоя), методолог науки. Его статья «Принцип сочувствия» послужила основанием развития нового направления этики. Мигдал Аркадий Бейнусович (для всех Бенедиктович) (1911-1991), физик-теоретик, окончил Ленинградский университет (1936), доктор наук (1943), член-корреспондент (1953), академик АН СССР (1966). Месмер (Mesmer Franz Anton) Франц (по др. ист. Фридрих) Антон (1734-1815), швейцарский врач и гипнотизер, «первый психотерапевт XVIII в.», основатель учения о «животном магнетизме» (месмеризма). Воспитывался в католическом монастыре, изучал право, медицину в Вене (диплом 1786 за диссертацию «О влиянии планет на людей»). Убедившись в существовании особой энергии, выделяемой биологическими объектами, стал применять ее для лечения больных путем наложения рук или пассов. Потом это показалось ему недостаточным, и он стал погружать больных в гипнотический транс. Однако не всех людей можно погружать в гипнотическое состояние, и после крупного скандала в Вене из-за причиненного больным вреда Месмер перебрался в Париж (1799). Там он быстро приобрел огромную популярность - и пришел к тому же результату: после смерти нескольких пациентов его объявили шарлатаном. Он покинул Францию, оставил практику и умер, забытый всеми. Подробнее о нем см.: Леманн А., «Иллюстрированная история суеверий и волшебства», М., 1900, переизд. Киев, «Украина», 1991; Pайков В., «Бум иррациональной психотерапии», «Наука и жизнь», 1989, № 12, с.114. |
| © 2005 - 2009 Е.В. Вейник работает на Sitefactor.CMS |
|