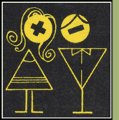 |
 |


|
Физмат2007. Соколов Д.Д., "Что есть истина в физике и математике?"Что есть истина в физике и математике?
Соколов Д.Д.
Журнал «Знание – сила», 2007, № 3.
http://www.inauka.ru/science/article77164.html Все мы слышали, что физика и математика - особенные науки. Добываемая ими научная истина особенно хороша, она отличается точностью и неопровержимостью. Она гораздо лучше той истины, которую добывает биолог, не говоря уже о филологе. Эти науки так и называют - точными. Научный фольклор широко поддерживает эту точку зрения. Физики охотно называют расплывчатые и бессодержательные места в работах коллег филологией. Известно изречение о том, что зрелость науки определяется использованием ею математики. Знакомые биологи, геологи и археологи время от времени начинают просто млеть, когда возникает надежда приспособить что-нибудь из математики к решению их проблем. При этом считается, что применение математики поднимает изучение вопроса на совершенно новый уровень. В качестве научного аргумента предлагается утверждение, что результат получен на компьютере, причем не на каком-нибудь, а на очень хорошем (специалист по прикладной математике сказал бы "на Крее", но если человек разбирается в том, какие бывают компьютеры с параллельными процессорами, то он уже обычно не столь легковерен). В развитие этого поверия многие полагают, что математика - более зрелая и важная наука, чем физика. Один из классиков физики XX века Юджин Вигнер написал широко известную статью о непостижимой эффективности математики в физике. Представление о том, что неплохо насытить статью сложными формулами (может быть, не очень нужными), свойственно многим физикам и, к сожалению, определяет облик многих важных физических журналов. Нельзя отрицать, что в этом расхожем суждении много верного. Действительно, физика в связке с математикой прошла многие испытания и достигла таких высот, которые и не снились многим наукам. Несомненно, что в одиночку им это было бы не под силу. Возникает естественное желание совершить подобный рывок на территории других областей знания. Так возникла социология, которую можно рассматривать как попытку подойти к изучению общества с мерками физики. Опять же, трудно отрицать, что на этом пути многого удалось достичь. Нет никакого сомнения в том, что опыт социологии может пригодиться и в других науках. Здесь встречаются поразительные примеры. Представление о пространстве-времени как о едином континууме, свойства которого обусловлены протекающими в нем процессами, было более-менее одновременно сформулировано в двух очень далеких областях науки. Теория относительности Эйнштейна сразу же приходит здесь в голову, однако точно такая же конструкция встречается в работах Бахтина по теории романа. Более того, она называется практически так же, только по-древнегречески - хронотопом. Очевидно, Эйнштейн не читал Бахтина. Обратное возможно, но трудно поверить, что размышления русского философа и филолога были инициированы физикой. Скорее, можно говорить об общем духе времени, о восприятии геометрических идей о кривом пространстве, восходящих к Лобачевскому и Риману. Однако здесь важно провести и существенное различие. Физика может воспринять математическую идею в деталях, а филология довольствуется лишь общим содержанием идеи. Это различие удобно пояснить таким нелицеприятным примером. Замечательный филолог и мыслитель XX века Лотман мучался вопросом о том, как оценить содержательность поэтического текста с точки зрения теории информации. По представлениям теории информации - а это типичная точная наука, - чем меньше текст допускает вариантов, тем меньше в нем информации. Хочется думать, что поэт в своих стихах хочет выразить нечто интересное и поучительное, однако законы стихосложения налагают значительные ограничения на набор возможных текстов, то есть заранее уменьшают информацию, содержащуюся в нем. Так почему же поэт не пишет прозой, в которых этих правил значительно меньше? Не хочется отнимать приятного знакомства с замечательными работами Лотмана у тех, кто еще не читал их. Скажу только, что в них кратко ("всего" в двух-трех увесистых томах) и очень убедительно разрешается этот парадокс. С автором трудно не согласиться. Однако человек, прошедший школу физико-математических наук, ожидает, что в конце этого пира мысли содержится ответ на простой вопрос о том, сколько же конкретно мегабайт информации, по мнению автора, содержится в стихотворении "Я помню чудное мгновенье" и как оно соотносится с количеством информации, содержащемся в аналогичном по объему куске таблицы логарифмов. В этих томах подобного ответа, конечно, нет. Проблема здесь не в том, что филология изначально хуже физики. Знающие люди говорят, что в лингвистике есть столь же математизированные области, как и в физике. В эти области внес важный вклад, скажем, великий математик XX века Колмогоров. Читать труды по этим разделам науки нисколько не проще, чем по физике. Вообще, насколько до нас, представителей физико-математических наук, доходят вести с этого фронта борьбы за истину, лингвистика - вторая область, где вслед за физикой удалась смычка между математикой и другой наукой. Дело как раз в том, что плата за математизацию науки достаточно велика. Читать Лотмана может человек, который, в общем-то, и не интересуется специально анализом поэтического текста. Прочесть современные работы, скажем, по физике элементарных частиц не может не только человек, не получивший специального физического образования, но и подавляющее большинство физиков, занимающихся другими областями своей науки. Одной из существенных проблем при обучении студентов - физиков и математиков является то, что они овладевают самыми первыми навыками работы только к концу университетского курса, а например, ботаник может начать пусть простую научную работу уже в первые студенческие годы. Чем дальше, тем больше времени нужно для того, чтобы физик вошел в мир своей работы. Выстроенный мир. Это - еще одно ключевое понятие, которое опять чудесным образом перекликается с кругом представлений филологии XX века. Как известно, на вопрос о том, чем писатель отличается от графомана, эта наука отвечает: у писателя есть свой художественный мир, а у графомана его нет. Например, мне не нравится Достоевский, но я не могу отрицать, что у него этот художественный мир (и очень для меня неприятный), несомненно, есть. В простой для восприятия форме понятие художественного мира описано в замечательной книге Стругацких "Понедельник начинается в субботу", которая прекрасно вобрала в себя представления нашего поколения физиков и математиков. Физика (а тем более математика) тоже, подобно литературе, не познает мир непосредственно. Это невозможно, в общем, потому же, почему литература не может непосредственно описывать действительность. Уже сам процесс описания предполагает существование какого-то каркаса представлений, мыслей, методов и тому подобное. Поэтому в строгом и совершенном здании физической теории на самом деле масса деталей взята вовсе не из опыта, а толком неизвестно откуда. Физик уверяет, что его теория проверяется на опыте. Люди, склонные к философии, дорабатывают это утверждение до разговоров в верифицируемости и фальсифицируемости. Говорят, что научным может быть только утверждение, допускающее подтверждение на опыте (верифицируемость). Поскольку трудно себе представить, как можно на опыте проверить, что, скажем, для ВСЕХ треугольников квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (не говоря уж о более серьезных утверждениях), то начинают говорить о фальсифицируемости. Это значит, что к научным положениям относят лишь те, которые можно было бы в принципе опровергнуть на опыте. По мере того, как попытки опровергнуть не удаются, крепнет наша вера в обоснованность такого суждения. Говорят, например, что марксизм - не наука потому, что он много раз пересматривал свои позиции, а вот физика... Не отстаивая мысль о научности марксизма (или какого-то иного подобного учения), приходится признать, что и физика много раз занималась ревизией своих основ. Например, законы сохранения энергии и импульса считаются фундаментом современной физики, а человек, покусившийся на них, приобретает геростратову славу. Конкретно, именно покушение на закон сохранения импульса (или момента импульса) вменяется научной общественностью в вину современной квазинаучной секте, верящей в торсионные поля (не буду здесь объяснять, что это такое). Однако каждый внимательно читавший учебник по физике знает, что несколько раз за свою историю законы сохранения дополнялись. В XIX веке к обычным тогда механической и тепловой энергии пришлось добавить электромагнитную энергию и ввести импульс электромагнитного поля. В XX веке для соблюдения законов сохранения пришлось ввести нейтрино и лишь после долгих усилий его удалось пронаблюдать непосредственно. Поэтому физик только улыбается (или, в зависимости от темперамента, отплевывается), когда биолог с упоением говорит о том, что биологии долго расти до критерия фальсифицируемости, чтобы стать подобной физике. Почему же концепция нейтрино была важным вкладом в физику, а современные торсионщики, покушающиеся на закон сохранения момента импульса, вызывают единодушное отторжение научной общественности? Дело в том, что физика строит некоторую идеальную модель мира, которую и можно изучать совместно с математикой. Если такой четко фиксированной модели нет, то нельзя эффективно применять математику. В физической теории удается выделить некоторые черты, которые можно проверить (или опровергнуть, это уже детали) экспериментом (так называют опыт, вписанный в рамки физической картины мира). Если же идеальной картины нет, то самая изощренная математика в лучшем случае может запутать дело и заставить принять совершенно фантастические представления. Отличным примером служит здесь "теория" Фоменко, пересматривающая основы древней истории. Фоменко - действительно известный в своей области математик. Нет оснований сомневаться в том, что, по крайней мере, на каком-то этапе своей квазиисторической деятельности он не воспринимал свои изыскания как мистификацию. Однако, как выяснилось, попытка перестроить историю по лекалу точной науки, игнорируя понятийный мир истории, приводит к результату, повергающему в шок не только профессиональных историков, но и физиков. Для того чтобы математизированная физика не оказалась похожей на историю по Фоменко, пришлось приложить много усилий, которые за два прошедших столетия сформировали образ физики как науки. Во-первых, физики делятся на теоретиков и экспериментаторов. Трудно себе представить геолога, никогда не ездившего в экспедицию (геологи говорят - не был в поле) и не видевшего своими глазами хоть какие-то объекты, которые он собирается изучать. Зато классик теоретической физики XX века Паули был органически несовместим с экспериментом. Хорошо известна история о том, как искали причину крупной аварии в одном физическом институте. Когда выяснилось, что в момент взрыва через город в поезде проезжал Паули, это сразу же приняли за правдоподобное объяснение причины взрыва. Я сам по склонности теоретик, поэтому уже овладение мобильным телефоном представляет для меня серьезную проблему. Еще сравнительно недавно трудно было представить ботаника, который не может отличить березу от ели, а теперь на наших глазах биология порождает разделение, в чем-то подобное разделению на теоретиков и экспериментаторов. Но времена уже не те, и разделение получается непривычное. Посмотрим, сможет ли в него вписаться математика. Во-вторых, научная истина строго регламентирована. Человек, работающий в физике, твердо знает: научная истина существует только в виде статей, опубликованных в реферируемых журналах. Желательно - самых лучших. Желательно, по-английски. Одной публикации мало. Совершенно необходимо представить результат на серии научных конференций, на которых присутствуют специалисты в данной области науки (особая благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований, существование и поддержка которого делают для нас возможным хоть как-то участвовать в этом процессе). Чем более смелую идею предлагает физик, тем более строгие требования предъявляются к этому процессу. Проходить его часто бывает мучительно сложно. Конечно, здесь встречается и игра групповых интересов, и вульгарный национализм, да и просто обычный консерватизм. Однако все это - необходимая плата за то, что поиски истины не заменяются на конъюнктурную активность. Конечно, этот фильтр важный, но далеко не абсолютный. Все время задаешь себе вопрос: не был бы Лысенко вульгарным хамом, владел бы он методами проталкивания статей в журнал Nature, какова была бы тогда судьба мичуринской биологии? Опыт показывает, что описанный фильтр достаточно эффективен и человек ранга Лысенко его не проходит, но сомнения остаются. Нежелание или неспособность пройти через этот фильтр и отделяют вышеупомянутую секту торсионщиков от науки. На самом деле относительность физической истины еще сильнее. В XVIII веке полагали, что тепло - особая жидкость, теплород. Чем больше теплорода в теле, тем оно теплее. Нагревание - перетекание теплорода из одного тела в другое. В XIX веке физики разобрались, что теплорода нет. Его существование не вписывается, например, в опыты по переходу механической энергии в тепловую, иначе пришлось бы предполагать, что теплород возникает из ничего. На смену теории теплорода пришло представление о законе сохранения энергии. Казалось бы, это триумф концепции фальсифицируемости. Плохо только то, что в огромном большинстве работ по теории тепло-переноса используется уравнение теплопроводности, которое как раз и выражает представление о переносе теплорода. Мы перестали говорить слово "теплород", а уравнением пользуемся! Конечно, мы научились говорить правильные слова, но вся ситуация как-то плохо совместима с представлением о строгой и совершенной науке. Впервые на все эти коллизии обратил внимание Кант, который и объяснил, почему нам не дано прямо познавать природу, а приходится мучительно развивать мир идеальных моделей. В этой связи Кант - один из немногих философов, имя которого не вызывает немедленного отторжения у физиков. Вообще, физики традиционно очень плохо относятся к философам. В случае же Канта приходится смиряться даже с тем, что его книги написаны просто безобразно. Чувствуется, что он просто пренебрегал интересами читателя и не применял простейших методов доведения до него текста. Возможно, что в этот момент физики интуитивно чувствуют, что и сами-то пишут не слишком понятно. Нам сейчас трудно себе представить, каким откровением были идеи Канта для его современников, которые твердо верили, что наука может непосредственно познавать тайны природы. Как мы видели выше, эти иллюзии живы и сегодня. Но в целом мы все-таки уже привыкли к этой неприятной новости. Для современников же это был страшный удар. Те, кто владеет немецким языком, могут почитать, какие письма писал своей невесте Вильгельмине фон Ценге замечательный немецкий писатель Клейст после того, как познакомился с книгами Канта, а туристы, посещающие Германию, могут полюбоваться на их дома, стоящие рядом на берегу Одера. Эти письма - длинная и запутанная смесь правил философской жизни и теоретико-познавательных этюдов, написанная с горячностью, свойственной писателю. Не приходится удивляться, что помолвка распалась. Со времен Канта ситуация существенно усложнилась. Еще в начале XX века физики верили, что изучаемые ими идеальные миры шаг за шагом становятся сложнее. Новая теория включает старую в качестве своего предельного, частного случая. Это называется принципом соответствия. Считалось в принципе возможным построить одну общую картину физического мира. Вершиной этого представления стала замечательная серия учебников Ландау и Лифшица по теоретической физике. Она обещает вывести все идеи и результаты теоретической физики из одного принципа - принципа наименьшего действия (сейчас ни к чему обсуждать, что это такое). Это - исключительно красивое построение. Оно заметно интереснее детективных романов (конечно, для тех, кто получил хотя бы три курса университетского образования по физике). На современников эта книга, принадлежащая середине XX века, производила впечатление не хуже, чем в свое время книги Канта. Об одном моем знакомом сохранилась легенда, что разговор на любую научную тему он начинал с выписывания этого самого принципа наименьшего действия, чем удивлял уже переболевших Книгой товарищей. Однако чем больше вчитываешься в Ландау и Лившица, тем яснее становится, что обещанная гармония все же недостижима. В середине XX века физикам пришлось уже одновременно работать в рамках нескольких взаимоисключающих подходов к одному и тому же кругу явлений. Как мне кажется, это произошло впервые в замечательных работах Колмогорова по теории турбулентности. С одной стороны, движение жидкости описывается вторым законом Ньютона (для специалистов скажу, что в этом случае он называется уравнением Навье-Стокса), в котором и речи нет о случайности. В то же время получающееся течение явно кажется случайным. Колмогоров предложил не дознаваться, как решение детерминированного уравнения становится случайным, а, махнув рукой на этот темный вопрос, заняться описанием получающегося случайного поля скорости, и показал, как это можно сделать. В целом современная физика получается похожей на картины Пикассо, в которых одновременно присутствуют изображения предмета с разных точек зрения (у женщины три уха, причем одно из них растет непонятно откуда). В тандеме физики и математики то одна, то другая наука выходят на первое место, но физика все же, как мне кажется, в конечном счете оказывается лидером. Именно она формулирует вызовы, на которые отвечает математика. Как сказал по этому поводу безвестный мыслитель, оставивший свое мнение на столе Центральной физической аудитории Московского университета, "Физика без математики - все равно, что голый в метро: можно, но неприлично". Тем не менее это лидерство очень относительно. Часто физические идеи выковывались в недрах математики (да и других областей знания) задолго до того, как ими воспользовались физики. Самый впечатляющий для меня пример - это идея триединства, которая без всякой мысли о квантовой механике вызрела в умах отцов церкви. Я сильно сомневаюсь, что физики начала XX века решились бы на идею корпускулярно-волнового дуализма (электрон - волна и частица одновременно) без того, чтобы они с детства не были знакомы с аналогичной фигурой мысли, возникающей в христианской теологии. Хочу пояснить, почему идея корпускулярно-волнового дуализма кажется мне менее радикальной, чем теория турбулентности Колмогорова. В первом случае разговор о частицах и волнах возникает потому, что наши органы чувств и выработанные с их помощью понятия недостаточны для адекватного представления квантовой механики. Однако сама по себе она - вполне стройная наука. Восприятие турбулентности, скажем, при мытье посуды под краном никакой проблемы не представляет, а тем не менее нам требуются взаимно дополняющие описания этого явления. Еще более тяжелые проблемы возникают при согласовании взглядов на один и тот же вопрос представителей разных наук. Физик смотрит на мир не так, как геолог или биолог. В других науках, скажем в биологии, тоже встречаются намеренно противоречивые описания явлений. Однако биолог еще не дошел до построения идеального математического мира, а физику уже недостаточно одного идеального мира. Например, есть геологи, которые серьезно обсуждают возможность того, что радиус Земли в разы меняется за небольшое по геологическим меркам время. Физикам эта точка зрения кажется заведомым вздором. Хочется сказать - вот во дворе лежит камень, измени его размеры раза в два, потом поговорим. К счастью, идея о переменности радиуса Земли не принимается на ура большинством геологов, но все же, как показывает опыт, не приводит к немедленному изгнанию из научного сообщества. Кстати, именно из-за того, что разные науки существенно по-разному смотрят на мир, такое отторжение в научном мире вызывает идея заменить в школе физику, химию, биологию и тому подобное на один предмет - естествознание. Так, конечно, можно преподавать (говорят, так учат детей в Америке), только тогда у этой кумулятивной дисциплины не будет научного содержания. Опять же может быть, это содержание в школе лишнее, и она не должна готовить к поступлению в хорошие вузы (об этом нам недавно снова напомнил министр образования). Может быть... Только тогда нужно ясно себе представлять, что 100% поступающих в вузы должны будут всю программу изучить с репетитором. Теперь читатель должен спросить: как точная и определенная истина физики и математики оказалась такой многоликой? И это хваленая наука, про которую я слышал, что она такая полезная и на которую общество отпускает так много денег налогоплательщиков (преимущественно не здесь, а за границей)? Что скажешь, простые, ясные и пригодные всегда ответы дает не наука, а религия. Беда только в том, что эти простые ответы несовместимы со свободным поиском истины, а в нем-то и заключена суть науки. Приходится признать, что окружающий мир, частью которого мы сами и являемся, сложен и не допускает простых объяснений. Те объяснения, которые предлагает наука, являются частными, недостаточными и несовершенными. Надеешься, что еще шаг - и произойдет озарение, но за каждой взятой высотой видны лишь новые высоты и перевалы. История показывает, что на этом пути открыто много полезного (а также и вредного, но об этом не хочется говорить). Мы не так горды, как прежде, и знаем, что научный метод ограничен. Мы надеемся, что искусство и мораль могут помочь на трудном пути. Если человек и человечество в целом хочет быть взрослым и по мере сил брать на себя ответственность за свою жизнь, то приходится идти по этому трудному пути. Если же хочется переложить ответственность на другого, то такая возможность предоставляется не наукой. В общем, хотите жить интересно - дерзайте! Справка: Соколов Дмитрий Дмитриевич (1949 г.р.), доктор физико-математических наук (1983, тема "Поверхности в псевдоевклидовом пространстве"), профессор (с 1995) кафедры математики физического факультета и профессор кафедры теории вероятностей механико-математического факультета МГУ (с 2000). Окончил физический факультет МГУ по кафедре математики (1972) и аспирантуру этой же кафедры с кандидатской диссертацией (1975). Область научных интересов - электродинамика космических сред, теория динамо, физика случайных сред, геометрия, методы обработки результатов наблюдения в различных науках (астрономия, изотопная геохимия, ботаника). |
| © 2005 - 2009 Е.В. Вейник работает на Sitefactor.CMS |
|